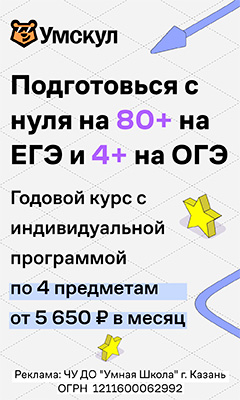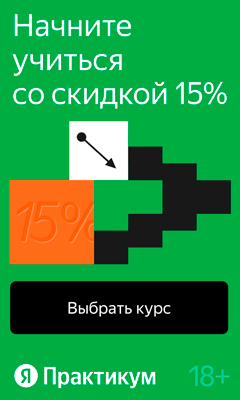Сегодня наша страна купается в собственной любви к Иосифу Бродскому. Проявляет то, чего ему не хватало при жизни. И без чего его жизнь оборвалась трагически рано.
Старшие поколения знают, что поэт был насильственно, угрозами выдворен из страны. Без малейших на то оснований, если вообще могут существовать какие-нибудь основания лишить человека Родины…
Наверное, многим ленинградцам хотелось эту ситуацию как-то исправить. Хотелось и мне. Я дважды встречался с Иосифом в Нью-Йорке. В общей сложности — семь часов, о чем и расскажу читателю.
Началась эта история с академика Лихачева. Дмитрий Сергеевич стал бывать у нас в Университете с осени 1992 года. Его научные интересы в тот период уже существенно вышли за рамки литературоведения, а мы разворачивали широкий цикл исследований культуры. Лихачев к этому времени был почетным доктором 19 университетов, среди них - ни одного российского. Тогда и появилась идея возродить у нас в стране институт почетных докторов, исчезнувший в советский период.
Мне эта мысль показалась интересной. Власти в России вначале 90-х отменили не только коммунистическое воспитание, но и воспитание вообще. Однако 17-летних студентов воспитывать все-таки было нужно. И мы искали новые точки опоры в этом деле. Мы понимали, что молодежь нуждается в достойных примерах для подражания, и лучше Лихачева в стране для этого никого не найти. 19 мая 1993 года Дмитрий Сергеевич стал нашим первым почетным доктором. Далее начал формироваться целый ряд замечательных имен: скульптор Аникушин, балерина Дудинская, писатель Гранин…
В середине 1990-х годов, перебирая возможные кандидатуры, я остановился на личности Иосифа Бродского. Принять Бродского в Почетные доктора СПбГУП представлялось правильным. Непосредственно с любовью к поэзии это для меня связано не было. Конечно, само по себе имя замечательного поэта могло выглядеть вполне достойно в ряду имен Лихачева, Аникушина, Дудинской. Не менее существенно другое: при всех симпатиях к советской власти, мне казалась совершенно омерзительной история насильственного выдворения Бродского из родного города. Человек пишет строки:
Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать,
На Васильевский остров
Я приду умирать,
а его за высокую поэзию хватают под белы руки, устраивают гнусное судилище, объявляют тунеядцем, заставляют уехать из страны... Ну, ладно бы еще антисоветчика, диссидента какого-нибудь — это укладывалось бы в логику той эпохи. Но нет, Родины лишают человека, весьма далекого от политики. Просто его стихи непонятны малограмотным, скучным чиновникам — перестраховщикам. И что особенно противно — многие ликовали, злорадствовали.
Я подумал, что это позорное пятно в истории Ленинграда надо как-то стирать, поехал в Нью-Йорк и встретился с Бродским в «Русском самоваре». Встречу помогла мне организовать Нина Аловерт, замечательный балетный фотограф из Ленинграда, жившая в то время уже в Америке и организовывавшая свои выставки у нас. С Аловерт меня познакомил мэр Анатолий Собчак. Нина прониклась ко мне некоторой симпатией и рекомендовала своему нью-йоркскому знакомому Каплану.
Роман Каплан – известная фигура в кругах российских эмигрантов Манхэттена. Да и не только эмигрантов. В то время Юрия Темирканова, Александра Журбина и многих других знаменитых российских деятелей культуры можно было встретить в ресторане «Русский самовар», принадлежавшего Каплану на паях с Михаилом Барышниковым и Иосифом Бродским. Благодаря Каплану я и познакомился с поэтом.
Первый раз мы с ним проговорили часа четыре. Бродский произвел впечатление человека не от мира сего, но очень приятное. Внешне абсолютно спокойный ленинградский интеллигент, глубоко погруженный в себя и совершенно не стремящийся произвести на кого-либо впечатление. Из тех, для кого внутренняя жизнь намного важнее внешнего материального мира со всей его суетой.
Характерная деталь: Нина рассказала мне, что получив Нобелевскую премию, Бродский раздал ее чуть ли не всю людям, которые помогали ему после приезда в Америку. Потом власти США потребовали от него заплатить налоги, а денег уже не было. Одевался Бродский бог знает во что. На улице глаз бы на нем не остановился. Но интеллект Иосиф излучал даже молча. Флюиды гениальности исходили от него такие, что нобелевский титул терял значение.
В начале разговора Бродский сказал мне, что в принципе не хочет появляться в Ленинграде. Я понял, что вся эта история с изгнанием нанесла ему страшную травму. Иосиф упомянул, что власти не пустили его в Ленинград даже попрощаться с умирающими родителями. Сказал, что если приедет, то у него просто не хватит душевных сил подойти к их могиле: «Я не знаю, как смогу это сделать». И еще он не хочет шумихи по поводу своего приезда: «Ко мне будут лезть и пытаться пожать руку те самые люди, которые радостно улюлюкали при моем отъезде».
И всё же в разговоре мы ходили кругами вокруг темы приезда в Ленинград. Я рассказывал, что многое у нас изменилось, и было бы хорошо, если бы он нашел в себе силы простить городу случившееся. Поэт ни в чем не был категоричен. Видимо, резкость была ему вообще не свойственна. К концу ужина он высказал мысль, что поддержать негосударственный университет своим именем — дело хорошее, и что 24 мая (а это — День рождения СПбГУП и день, когда мы по традиции облачаем в мантию вновь избранного Почетного доктора) — день его рождения: «Оказаться в этот день в Ленинграде и получить мантию — в этом есть некоторый кайф». На том и завершили беседу.
Через некоторое время после моего возвращения позвонил Собчак: «Здравствуйте, Александр Сергеевич!Мне говорят, что у Вас сложились хорошие отношения с Бродским. В феврале я буду несколько дней в Нью-Йорке. Не могли бы Вы организовать мне с ним встречу?» Я ответил, что слухи о моих хороших отношениях несколько преувеличены, но организовать встречу попробую.
Это оказалось делом непростым. Бродский в те дни читал лекции в университете — кажется, Массачусетса, — но Роман Каплан все же уговорил его приехать в Нью-Йорк. Анатолий Александрович с Нарусовой остановились в отеле «Уолдорф Астория». Как человек в то время совсем бедный, я снял себе самый дешевый номер там же. Обедали вчетвером. Приятно поразила одна вещь: стало понятно, что у Собчака были абсолютно те же мотивы приглашать Бродского в Петербург, что и у меня. Он тоже считал, что изгнание Бродского — позорная страница в истории города и что это дело надо хоть как-то исправить, чтобы грядущим поколениям горожан не было за нас так стыдно. Только я мыслил как ректор, а он —как мэр. Собчак хотел, чтобы Бродский был избран Почетным гражданином Санкт-Петербурга.
К моменту этой встречи я уже чувствовал, что Бродский не очень хочет принимать мантию СПбГУП. Видимо, в период между двумя нашими встречами он беседовал с кем-то из своих немногих друзей, оставшихся в России. Скорее всего, они его отговаривали: дескать, зачем тебе это нужно — «профсоюзный» университет, где эти профсоюзы и где поэзия... Это не Оксфорд и не Гарвард… Думая об этом, в середине беседы я на полчаса оставил собеседников, чтобы облегчить Собчаку уговоры. Когда вернулся, Собчак, казалось, почти убедил поэта. Мы вышли в огромный холл «Астории», и Бродский тихо сказал мне: «Я, наверное, приеду, и Вы вручите мне мантию. Только постарайтесь не устраивать вокруг этого слишком большой суеты». Я сфотографировал на память Бродского, Собчака и Нарусову, после чего Бродский заявил мне, что я никудышный фотограф:«Поверьте, я в этом разбираюсь. У меня отец был фотографом». Я ответил, что время нас рассудит.
Нас рассудил очень короткий промежуток времени. Через несколько месяцев после той встречи мне позвонил мэр и пригласил на презентацию своей новой книги. В ней была опубликована та самая фотография из «Уолдорф Астории». Это был первый случай, когда мою фотографию напечатали в книге…
Вторая встреча с Бродским сильно изменила мое отношение к Собчаку. Анатолий Александрович был сложной фигурой: яркий, безоглядно резкий — его многие не любили. И было за что, ошибок Собчак наделал немало. Однако тогда, в Нью-Йорке я, кажется, понял его суть — суть светлого и благородного человека. Он очень любил свою жену, которая, скорее всего, того не стоила. Он имел скромный достаток — приехал тогда в Америку, чтобы честно заработать лекционный гонорар в несколько тысяч долларов. Он любил Ленинград и тянулся к интеллигенции. Все это было искренне и органично, от души.
Думаю, Собчак был таким же мужественным человеком, как Бродский. И так же трагически рано ушел из жизни — так же не выдержало сердце.
Бродский не вернулся в Ленинград даже после смерти. При жизни он колебался. В особенности, когда приезжал в Финляндию. Там ему не давала покоя мысль, что до дома — несколько сотен километров. Но того дома, что он любил, уже не существовало.
Душевная травма была такова, что российский поэт Бродский, видимо, умер еще при отъезде из России. В Америке от стал писать по-английски, и это уже был совсем другой поэт. Простил ли? — Не знаю. Не знаю даже, можно ли было его страдания назвать обидой. Есть удары судьбы, которые этим словом не обозначить.
Но похоронить себя он просил в Венеции. Я был на его могиле. Там, в земле рядом с ним, много россиян.